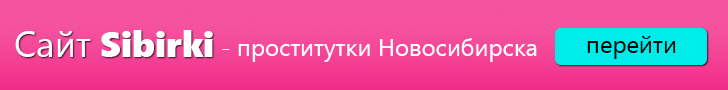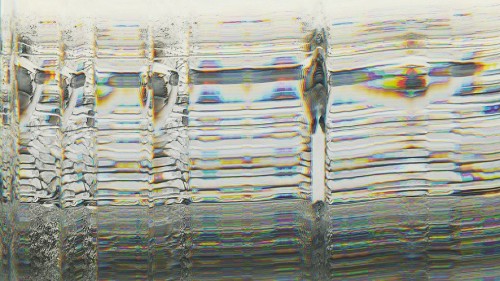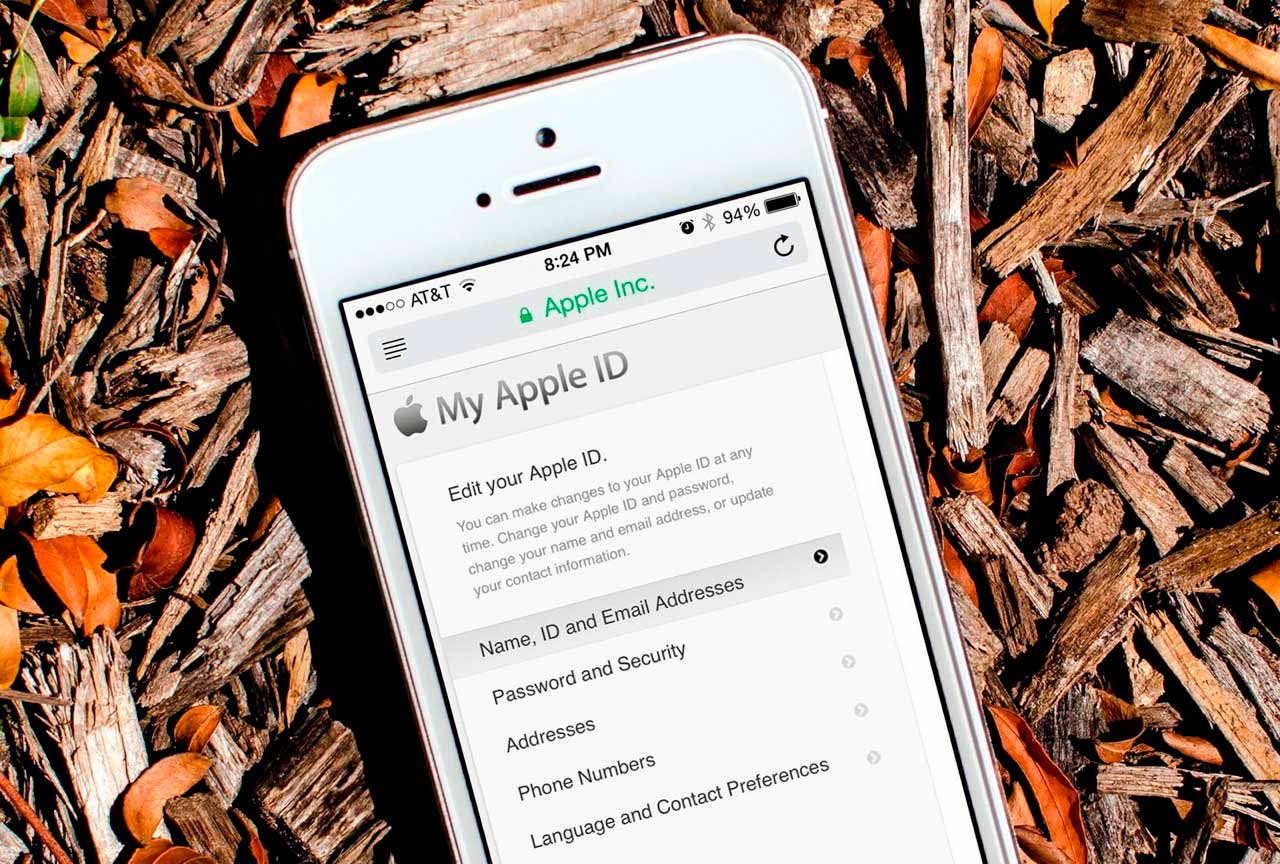В России с диагнозом «шизофрения» живет больше полумиллиона человек. Корреспондент Esquire Полина Еременко рассказала историю одного такого пациента: на протяжении двадцати пяти лет шизофренией болел ее отец.
Слово «шизофрения» в нашей семье произносить было не принято. Когда речь заходила о папиных странностях, говорили: «Папа болеет». И мне долго казалось, что это какое-то преувеличение: температуры же нет, руки-ноги на месте. Да, он выглядел замкнутым человеком без интересов, которому лень даже встать с дивана. Разве это так сложно — встать с дивана?
Папа умер чуть больше года назад. Сначала я скрупулезно восстанавливала историю его жизни. Поговорила с мамой и бабушкой. Записала собственные воспоминания. И отнесла все социологам и врачам. Тем, кто лечил папу, и тем, кто никогда его не видел. Тем, кто работает здесь и сейчас, и тем, кто делает это в тысячах километров отсюда. Тем, кто каждый день заходит в палату, и тем, кто исследует болезнь со стороны. Я хотела получить очень простые ответы. Когда мой папа действительно заболел? Можно ли было его вылечить? Правильно ли его лечили? Как должна была вести себя я? Моя мама и бабушка? Могли ли мы понять его, а он нас? Вместо этого я получила только новые вопросы. Один из которых — была ли это вообще шизофрения?
«Сегодня слово „шизофрения“ — почти как „любовь“. Когда человек говорит „я тебя люблю“, он может иметь в виду все, что угодно. Например, „дай мне денег“ или „трахни меня“. К любви это имеет очень мало отношения, но мы все это называем одним словом. Вот и шизофрения — абстрактный термин. Он не имеет никакого отношения к объективным анализам, исследованиям, тестам. До сих пор нигде в мире нет никаких объективных способов диагностики шизофрении. Я, читающий заполненную пациентом анкету, становлюсь кем-то вроде судьи».
«Что происходит с человеком, когда он заболевает шизофрений? Смотрите, в мозгу есть область, которая называется префронтальная кора. Она отвечает за способность планировать и давать оценки. В определенный момент, чаще всего в подростковом возрасте, начинают налаживаться связи между этой областью и другими. И если на этой стадии происходит сбой, то вы получаете шизофрению. Навсегда — лечения для этого сбоя не придумано. Сегодня врачи могут помочь больному шизофренией избавиться от так называемых „позитивных симптомов“ — галлюцинаций, но они не в состоянии восстановить интеллект, способность планировать и судить.
Есть довольно простой тест, с помощью которого вы можете выявить признаки шизофрении. Просто три минуты вспоминайте животных — столько, сколько можете. Здоровый человек в среднем назовет 40 животных, больной — не больше 24. Вот почему. Первые 16 животных вы называете на автомате: кошка, собака, лошадь, обезьяна… Дальше вам нужна стратегия. Например, вы вспоминаете, как ходили в последний раз в зоопарк, или можете начать перебирать животных по группам — птицы, рыбы и так далее. Если вы в состоянии придумать хоть какую-то стратегию — вы здоровы».
«Познакомились мы с твоим папой летом 1983 года в Алупке, в пивном баре. Он отдыхал с однокурсниками по МФТИ — по тем временам учиться там было невероятно престижно. У него был немного диковатый вид: огромная копна кудрявых волос, брюки песочного цвета, выцветшие, довольно рваные. Я в то время увлекалась балетом и с собой у меня была книга про Нижинского. Нижинский танцевал с совершенно кошачье-леопардовой грацией. И когда мы всей толпой пошли на пляж, я обратила внимание, что вот этот молодой человек, Коля, очень интересно двигается. Абсолютно по-кошачьи.
На пляже твой папа пошел на конец пирса, помахал всем рукой и прыгнул в воду прямо в одежде. Ему все было по фигу. И эта безумная естественность ужасно подкупала. Еще у него было прекрасное чувство юмора — мы все время хохотали. В нем было какое-то невесомое, феерическое рас***дяйство, какая-то легкость в отношении к жизни.
Целый год мы мотались на поездах Питер — Москва. Денег ни у кого не было, ездили плацкартным. Твой папа тогда играл в театральной студии и дружил с билетными спекулянтами. Однажды, чтобы сделать мне приятное, он достал один билет на „Мастера и Маргариту“ на Таганке: отправил меня на спектакль, а сам пошел гулять с друзьями. Когда я вышла из театра, они были такими пьяными, что разделить мой восторг уже никто не мог.
В ноябре 1983-го твой папа сделал мне предложение. Мы собирались в Волгоград — знакомиться с его родителями. Встретили нас радушно. Раиса Семеновна по-доброму ко мне отнеслась, кажется, на нее произвело впечатление, что у меня недавно умерла мама. Но кое-что в первый момент меня напрягло. Вся квартира была завалена бумагами, банками, крышками, бог знает чем. Рояль я заметила только через год. Правда, вечером Раиса Семеновна сказала, что покажет мне фотографии, — и, несмотря на хаос, моментально их нашла».
«Я хорошо помню знакомство. Дверь открывается, на пороге Дина. И я так по-крестьянски — видимо, это корни, — с распростертыми объятиями к ней иду, а она немного пятится назад от меня. Не помню уже, опустились у меня руки или я ее за плечи подержала. Но вот это первое впечатление в памяти задержалось».
«Свадьба была в Ленинграде — весьма банальная. В босоножках по снегу было не подойти к Медному всаднику, и Коля нес меня на руках. Понаехали родственники и друзья из всех городов, гуляли в нашей комнате — 55 метров в коммуналке. На свадьбу нам подарили двухлитровую рюмку. Коля без конца плескал в нее шампанское, напился в стельку и спал в уголке на полу. Я немного побесилась, но потом махнула рукой: напившийся жених — что здесь такого необычного. Три дня мы праздновали свадьбу, это слегка напоминало затянувшийся Новый год: все встают, опохмеляются, едят оливье и снова отмечают.
В апреле 1984 года Коля окончательно перебрался в Ленинград. Мой папа устроил его на завод приборостроения „Светлана“. Коля хотел в научный институт, но там не было вакансий. Жили весело, я старалась быть разгильдяйкой — Коле под стать. Когда родилась твоя сестра, сшила кенгурушку — тогда это выглядело дико. Мы постоянно ездили за город, а чтобы не тащить по кочкам тяжелую коляску, Таньку клали спать в чемодан. Жаль, у нас не было фотоаппарата».
«Я приехала в Петербург на три месяца — помогать с Таней. И все время слышала, что идет не обыкновенный разговор, а ваша мама кричит, папиного голоса не слышно. У нас с Колей состоялся разговор, он ответил: «Ой, мам, ты знаешь, Дина покричит-покричит, а потом снова все хорошо». Я ему тогда сказала: «Дина покричит и перестанет, а у тебя на сердце откладываются рубцы».
«А потом Коля зачем-то предложил снять в коммуналке старинный тигровый паркет, переживший блокаду, и положить доски. Отодвинул шкаф и начал сваливать туда ящики, которые надо было разобрать и отполировать. Туда добавились выдранные откуда-то ржавые гвозди, коробки, строительный мусор. Меня это немного напрягало — этот хлам напоминал волгоградскую квартиру. Я сказала, что паркет он тронет только через мой труп. Коля спорить не стал, а я решила не заглядывать за шкаф — в конце концов, места было предостаточно».
«Вы мне так красиво рассказываете о том, как вел себя папа. Что он даже попросил убрать паркет, совершал поступки, которые казались странными, которые трудно совместить с его высоким уровнем интеллекта. К сожалению, ваша мама спохватилась слишком поздно. В самом начале нет четкой грани между больным и здоровым. К врачу нужно бежать, когда психические расстройства только начинаются».

«Чтобы вырваться из коммуналки, мы съехались в трехкомнатную квартирку с двумя моими старенькими бабушками. Они были страшно рады, но потребовали отдельных комнат — мы с Таником и Колей оказались в проходной. В этой квартире у нас была абсолютно совковая жизнь: теснота, уединиться можно было только в туалете. Бабок мы раздражали — и они нас тоже.
Коля стал срываться. Начал говорить какие-то странные вещи, на словах в нем внезапно проявлялась необъяснимая жестокость, я пугалась: „Как вот этот человек может такое сказать?“ Вдруг мне стало казаться, что я живу с посторонним человеком. Он стал целыми днями чертить какие-то схемы и читать книги про молох ведьм. Я успокаивала себя тем, что просто устала и придираюсь. И правда, потом тучи прошли — это был просто дурной сон».
«К психическим заболеваниям долгое время относились категорично — оно либо у тебя есть, либо его нет. Сегодня отношение изменилось, и между больным человеком и здоровым уже не проводят такую резкую грань. Потому что, например, бред бывает разной степени тяжести и иногда случается и у здоровых людей. Очень тяжело порой отличить нормальное поведение от патологического».
«Коле не нравилось на „Светлане“, он мечтал с завода уйти. Кто-то ему рассказал, что есть возможность поехать в экспедицию в Антарктиду. Он сходил в Институт Арктики и Антарктики, его там полюбили, прошел кучу тестирований и медосмотров. В том числе и у психиатра, который ему сказал, что он здоров.
Это была уже глубокая осень 1987 года. Я лежала в больнице на сохранении, ты должна была родиться через несколько месяцев. Экспедиция была на год, но я была уверена, что справлюсь. Он прибегал и рассказывал, как привезет нам пингвина. Но в один день пришел под окошко и крикнул: „Все сорвалось. Мне отказали“. Я так и не узнала, по какой причине.
Колю это сломало. Он стал больше пить. Зачастили собутыльники. И все становилось мрачнее и неприятнее».
«Ваш папа, вне всякого сомнения, был слабым человеком. Он не держал удар, он был эмоционально неустойчив, проваливался в себя. До поры до времени это были изменения сугубо невротического характера. Но попытка пить, чтобы чувствовать себя свободным, до добра не доводит».
«А потом у нас сломался стол на кухне. Это было 16 ноября 1987-го. Колька отказался ехать за новым, сославшись на дела, я взяла Таню в охапку и поехала в мебельный магазин одна. Тогда все было в дефиците, но я нашла ровно тот столик, который нам был нужен, с голубым пластиком сверху. Позвонила от заведующей Коле — чтобы помог забрать столик. Он снова отказался. Я повесила трубку, нашла какого-то мужика с машиной, он нас довез и выгрузил. И в этот момент из подъезда выходит Коля. Я обрадовалась, а он вместо того, чтобы помочь, говорит: „Сами занесите, у меня дела“. И уходит. Я как-то затащила этот столик, собрала его и уехала с Таней к подруге. Весь вечер жаловалась ей, что на Кольку будто мрак какой-то опустился. Мы остались у нее ночевать. Наутро до подруги дозвонился мой отец и сказал только одну фразу: „Срочно приезжай“.
Дверь в квартиру открыть было невозможно. Потому что все банки, консервы, стулья, мебель, тумбочки — все летело в проход. В квартире не было живого места, разбито и сломано все, что только можно. Когда я зашла в комнату, то увидела, что в 20-литровой бутыли самодельного вина осталось на донышке. Коля бегал и кричал, что кругом враги и что он всем покажет. Успокоить его было невозможно, он продолжал подливать себе и только возбуждался еще больше. Я нашла в бабушкиных лекарствах сильнодействующее снотворное, натолкла его и насыпала в стакан с вином. К счастью, он заснул.
Я села посреди разгромленной квартиры, не понимая, как жить дальше. А потом начала потихоньку убирать. Вынесла стекло и ломаную мебель. Мне было так жалко этот чертов столик — у него откололся край, но потом мы так и жили с ним, новый уже не купили.
Когда Колька проснулся, он даже не извинился за то, что натворил. Просто встал и ушел гулять».
«Психиатрия — наука точная. И я вам могу совершенно точно назвать диагноз вашего папы: шизофрения непрерывно текущая параноидная. Налицо позитивная симптоматика — бред и галлюцинации. Это обязательные симптомы, как принято считать. Но важно уточнить, что они могут возникнуть и при запредельных внешних раздражителях. Например, помести меня сейчас в Администрацию президента на месяц — у меня тоже начнется параноидный бред».
«У нас в стране все любят называть шизофренией. Нет органических психозов, нет психозов, возникающих под воздействием ЛСД, нет психозов, связанных с патологическим фоном гормонов щитовидной железы, — это все шизофрения. Так повелось еще с 1960-х, когда появилось учение Снежневского, главного психиатра СССР, о едином психозе».

«Дальше стали происходить странные вещи. Твой папа поставил несколько замков, принес откуда-то фанеру и загородил балконную дверь, задраил форточки, навешал на окна каких-то тряпок. Он говорил, что у него могут быть неприятности, не мог сидеть на одном месте: все время куда-то пропадал и возвращался. Я обзванивала больницы, но через сутки он приходил сам — с совершенно безумными глазами. Ночью не спал вообще, гремел то мебелью, то посудой. И все время прикладывался к вину, хотя так страшно больше не напивался».
«Люди, страдающие шизофрений, живут в состоянии постоянного страха. Нам всем бывает страшно — иногда в течение пяти минут, иногда целый час. Но здесь страх съедает тебя неделями, месяцами. Чаще всего речь идет о страхе смерти. Даже не смерти, а небытия. Какие мысли приходят в голову больному? Это зависит от ситуации. Он может накрутить себя до мыслей „да тот-то хочет убить меня“, прыгнуть в первый поезд и уехать. Для них их галлюцинации и есть реальность».
«Я его долго уговаривала поехать в психдиспансер. Доктор назначила лекарства, скорее всего, это был какой-то банальный галоперидол. Но про диагноз толком так и не сказала: то ли шизофрения, то ли маниакально-депрессивный психоз».
«Вот чем отличается маниакально-депрессивный психоз от шизофрении. Шизофрения — это галлюцинации и постепенная потеря интеллекта. Маниакально-депрессивный психоз — это тоже галлюцинации, но при этом интеллект никуда не девается. Люди с таким диагнозом становятся докторами, адвокатами и учеными. Они женятся и заводят детей. Как ставится диагноз в случае психических заболеваний? Есть международный стандарт ДСМ-5. Доктор должен подробно расспросить пациента и получить от него как можно больше информации. Затем врач сверяет эти сведения с критериями и ставит диагноз. В шизофрении ищут сочетания позитивной симптоматики, то есть галлюцинаций, и негативной — потери мотивации.
В случае с вашим отцом у меня есть некоторые сомнения по поводу диагноза. Особенно потому, что он все-таки был женат, у него были вы и ваша сестра. Поставить правильный диагноз, возможно, мешала тяга к алкоголю. Ошибка в диагнозе и последующее неправильное лечение может сильно навредить пациенту — длительное применение галоперидола прописывают при шизофрении, но при МДП это губительно».
«С какого момента вашего отца можно было считать официально больным? После похода к психиатру. Когда человек встает на учет в психиатрической больнице, он уже делает „карьеру психического больного“. Гете говорил: „Свободен первый шаг, но мы рабы второго“. Когда этот первый шаг сделан — человек уже стоит на учете, он уже психбольной. Все эти социальные вещи очень скользкие: одного шага достаточно, чтобы совершенно изменилась биография человека».
«На первом же приеме доктор спросила, не было ли в семье дурной наследственности. Я позвонила Раисе Семеновне».
«Ваш дед демобилизовался в 1965 году, когда миллион человек из армии сократили. Незадолго до этого он лежал в больнице с нервами. За десять лет работы на ПВО, когда сутками дежуришь, сутками не спишь, конечно, с нервами что-то произошло. Я не знаю, как называлось его заболевание».
«Есть общепринятое понимание, что если среди близких родственников есть больные шизофренией, ваши шансы заболеть увеличиваются на 10%. Других данных о наследственности этого заболевания нет. На поиски вариантов генов, указывающих на риск возникновения шизофрении, потрачены колоссальные усилия. Я, например, занимаюсь этим уже 36 лет. Мы с коллегами собрали анализы ДНК 38 тысяч пациентов с шизофренией. Пока что мы не в состоянии дать ответ на этот вопрос — мы находимся на стадии сбора информации. Но я думаю, что уже через десять лет это будет возможно. По крайней мере, я над этим работаю каждый день».

«За пару месяцев, попив таблеток, Коля стал абсолютно адекватным. Поменял работу — в Институте прикладной астрономии было намного интереснее. В феврале родилась ты — и мне стало казаться, что не было той кошмарной осени.
А потом мне позвонил завлабораторией, где работал Коля, и попросил о встрече. Он долго переминался с ноги на ногу, а затем сказал: „В последнее время Коля ведет себя странно. Куда-то уходит, где-то гуляет. Недавно принес на работу резиновые сапоги и удочку. Теперь ходит на реку Ждановку ловить рыбу. Чертит какие-то таблицы, которые к работе не имеют никакого отношения. Сделайте что-нибудь“.
Мы уговорили его на дневной стационар. Но начинало казаться, что он живет как за тюлевой занавесочкой. Ходит прямо, говорит складно, но не всегда отдает себе отчет в том, что происходит. Надо сходить в психушку — давай сходим. Когда состояние улучшалось, он возмущался: „Я больше туда не пойду, я же нормальный“. Но снова раз за разом оказывался в больнице.
Меня врач сразу предупредила: вам это скоро надоест. Я спорила: „Ну что вы, я не такая“. Она убеждала: „Это нормально. Обычно подобные истории заканчиваются тем, что человек оказывается с мамой“. Я прожила такой жизнью почти четыре года и в какой-то момент поняла, что только из-за жалости быть с человеком нельзя. Больше уже ничего не осталось. А потом я отправилась в командировку в Америку и познакомилась с Робертом. И когда вернулась, попросила у Коли развод. В октябре 1992 года мы с тобой и Таником уехали в США».
«Мы приехали из Волгограда вас проводить. Я до аэропорта не доехала, но дед рассказал, что Коле там было тяжело, он плакал. Твоя мама все-таки была его первой любовью, а он был так воспитан, что первая любовь — на всю жизнь. Я не могу определить, на сколько процентов твоя мама виновата в том, что он заболел, а на сколько генетика. Но могу предположить, что его непростые отношения с Дианой усугубили это состояние».
«Я могу точно сказать, что ваша мама не причастна к болезни отца. Нет никаких сведений о том, что супруга могла бы довести человека до шизофрении».
«Вернувшись из аэропорта, Коля выломал входную дверь. Я вызвала скорую — что мне оставалось делать? Через несколько дней, когда я пришла к нему, врач сказал, что ему надо лечиться, что он долго будет лежать. А соседи по палате — что санитары сняли с него золотое кольцо. Когда я пришла в следующий раз, все ребята стояли у окна, ждали родных. Они и говорят мне: „Вы к Николаю? Ему делали уколы, он себя очень плохо чувствует“. Потом его под руки подвели к окну. Он что-то шептал про себя, а меня не видел.
Я спрашивала, что за лекарства ему там дают. Но разве мне будет кто-то отчитываться о таблетках и уколах? Папа твой, естественно, ничего не помнил и не мог объяснить. В больнице он пролежал месяц — и вышел оттуда инвалидом третьей группы. Мы уехали домой, в Волгоград».
«Мог бы папа выкарабкаться, если бы остался один в Петербурге? Да. А мог погибнуть. Нельзя не пить для мамы, бабушки, дочери. Это сугубо эгоистический вопрос. Поэтому во всех учебниках наркологии западных, не наших, любая терапия алкоголика или наркомана начинается с фразы „оставление без опеки“. Пьешь — катись к чертовой матери, ни копейки денег и ничего больше. Человек должен встать в ситуацию, в которой он сам должен себя обслуживать. Большинство понимают, что надо выживать, стряхивают с себя эту масочку и начинают как-то работать, а не на рыбалку ходить.
Просто перед тем, как пихать ему диагнозы и препараты, надо было разобраться на психологическом уровне, что с ним происходит. Понимаете, скорее всего ваши мозги тоже в какой-то степени папины. Но вы, благодаря маме, себе самой, мужчинам, научились понимать, что это ваш талант. Оно же ваше безумие — и ваш талант. А его этому никто не научил. Ему сразу сказали: „Шизофрения!“ — и назначили таблетки».
«Через несколько недель Коля пришел в себя. Я пыталась играть с ним в шахматы, но он меня пару раз обыграл и ему стало скучно. Его взяли на работу каменщиком, даже несмотря на инвалидность. Он проработал несколько месяцев, построил на центральном рынке кирпичный киоск. Я замечала, что его тяготит эта работа, ему хотелось чего-то интеллектуального. Дома он еще помогал мне вышивать крестиком картинки на продажу: ему нравилось вышивать горшки для фиалок. Иногда помогал на станции юннатов, где я работала уборщицей, но на постоянную работу больше уже не устраивался.
В начале 2000-х он снова попал в больницу. Там были медсестры, которым я иногда носила шоколад, и одна мне рассказала, что там происходит. Например, что в больнице очень много зеков — они там прятались, чтобы не отбывать наказание. А врачи их держали, потому что когда кто-то из больных буянил, зеки могли их задавить. Они отбирали у больных еду, которую им носили, издевались, заставляли мыть унитазы. Коля был очень мягкий и не сопротивлялся. Я решила, что больше он в больницу не попадет. Когда у него начиналась агрессия, жила в его комнате: я на диване, Коля на полу. Бывали и уходы из дома. Один раз он пошел по берегу Волги с мусорным ведром и шел так несколько часов, пока мы его не нашли.
Вместо больницы он стал ежемесячно ходить в диспансер к психиатру Ольге Ивановне на уколы. Кололи модитен депо (сильное антипсихотическое средство длительного действия, устраняет тревожность и раздражительность, галлюцинации и бред. — Esquire).
«Модитен депо снижал интенсивность тех симптомов, которые были у вашего отца поначалу. Поэтому он и смог просуществовать с этой болезнью столько лет, не дойдя до полного слабоумия».
«Одной из причин потери всякого интереса к жизни мог быть модитен. Это ведь очень сильный транквилизатор. А под транквилизаторами не хочется не то что книжку читать, а вообще что-либо делать».

«В диспансере он познакомился со своими двумя друзьями, Володей и Виталиком. Зачастили к нам выпивать. Я говорила Коле, что с водкой надо осторожнее, а Володя ему объяснил, что если много пить, это уменьшает действие болезни, и он не попадет снова в больницу. В середине нулевых Володя повесился, после того как от него ушла жена. Со вторым другом Виталиком еще через пару лет произошла ужасная история — в приступе он убил свою мать и его отправили в колонию. Но этого мы Коле уже не рассказывали».
«Шизофреники очень часто злоупотребляют алкоголем, он для них является неким подобием психотропного препарата. Для того чтобы снять беспокойство и возбуждение. Было ли правильно пить? Этого говорить нельзя, но я скажу, что да. Более того, существует такое негласное умозаключение, что если пациент, больной шизофренией, злоупотребляет алкоголем, то болезнь медленнее прогрессирует. С другой стороны, и побочные эффекты довольно серьезные — белая горячка, цирроз печени, внезапная смерть».
«Выслушав всю вашу историю, я понимаю, что мои догадки были верными: вы рассказали мне не про шизофреника, а про алкоголика. Трагическую, прозрачную, абсолютно понятную историю алкоголика, которому окончательно снесло крышу страшно токсичным препаратом. И если вы не понимаете, почему он в конце жизни лишился эмоций, то давайте я прямо сейчас, ради эксперимента, вас уколю модитеном, а потом поговорим о ваших эмоциях. Вы уже через неделю будете похожи на шизофреника. Скорее всего, он страдал каким-то органическим расстройством нервной системы. Это неврология, а не психиатрия».
Последние годы папиной жизни я хорошо помню сама — не по рассказам мамы и бабушки. Из Америки мы вернулись через пять лет. Каждое лето, до самой папиной смерти, мама отправляла нас с сестрой к нему в гости. Все эти годы папа был для меня фигурой, курившей на балконе. Он мог стоять там часами. В первые приезды мне очень хотелось играть и дружить с ним. Я его все время теребила, дразнила, но он ни на что не реагировал — только улыбался. Кину в него абрикосовую косточку — он улыбается, спущу все его сигареты в унитаз — улыбается. Чаще всего он молчал.
Я не понимала, почему он себя так ведет, но все равно очень его любила. Помню, мы отправились с ним на дачу, я залезла на вишню и рассказывала, что в Петербург не вернусь, а останусь с ним. Папа улыбался. Он никогда не вел себя как больной — просто как очень замкнутый человек. И тогда я списывала его нежелание что-либо делать — только курить на балконе — на какую-то невероятную лень.
«Папина замкнутость была следствием дефекта в эмоционально-волевой сфере. Ведь главная проблема болезни не столько в позитивной симптоматике, а в том, что человеку не хочется ни работать, ни общаться, ни книжки читать, ни даже в душ ходить. Иногда ваша бабушка ко мне приходила и говорила: „Мне кажется, Коле становится лучше“. Но я ей аккуратно объясняла: с этой болезнью такого не бывает. Эмоционально-волевой дефект необратим. Я хорошо помню вашего папу. Он был таким совершенно безобидным, только если по болезни делал какие-то неадекватные вещи. Помню, как он в ванной замачивал меховые шапки вашего дедушки. Когда я Колю спрашивала, он говорил: „Хотел постирать, грязные были“. Но он их и не стирал, а просто оставлял в воде».
«Вы говорите, что папа вам казался ленивым. Но поймите, в психиатрии нет понятия „ленивый“. Шизофреники не ленивые, они больные. У ленивого человека есть мотивация — он пытается избежать работы. У больного нет никакой мотивации, у него просто нарушена работа мозга. Вы же не станете обвинять человека с опухолью мозга в том, что он ленивый?»
Постепенно папа перестал следить за собой, мыться, у него выпадали зубы. Он много ел, почти не двигался и очень сильно растолстел. Мне становилось за него стыдно. И если в первые годы я собирала монетки, чтобы накопить ему на билет в Петербург, то теперь мне уже не хотелось приглашать его в гости. Последний раз я приехала к папе в 2010 году. Тогда мне очень хотелось поговорить с ним. Ну расскажи, что у тебя происходит, ну не будь таким чужим. Я предложила сходить на Волгу, папа согласился: «Пойдем, но только давай сначала в рюмочную на минутку». Я взяла с него обещание: только по одной. В конце концов, он сказал, что без четвертой не уйдет. А когда мы вышли, он уже пел песни. Мы вернулись домой, и он лег спать. Я разозлилась и пообещала себе больше не приезжать. Обещание я сдержала.
Папа умер 12 октября 2013-го. Вместе с дедушкой они отправились на дачу — собирать орехи. Когда-то там посадили два орешника: один в честь моей сестры, второй — в честь меня. На обратном пути папа ушел вперед, а дедушка отстал. Где-то по дороге папа выпил паленой водки. Он упал на отшибе дачных участков, не дойдя до автобусной остановки. Это был инфаркт. Кто-то вызвал скорую, но врачи приехали слишком поздно. Папе было 53 года.
Я, узнав о его смерти, ничего не почувствовала. Плакать не хотелось. Только было ужасно обидно: я представляла, как мимо мертвого папы проходят люди и думают: «Еще один допился». Как будто это был какой-то никчемный алкоголик.
На следующий день после его смерти я прилетела в Волгоград. Выбрали место на кладбище — на вершине холма, с видом на пруд и дачные домики. Казалось, папа наконец переезжает куда-то в хорошее место.
В морге сказали, что для папы не хватило холодильника, в тот день был перебор по трупам — часть лежала прямо в коридоре. За ночь тело потемнело, папу пришлось хоронить с тряпочкой на лице. Во время похорон на секунду я даже подумала: а вдруг там не он. Но пригляделась и узнала его нос: когда я была маленькой, мы с ним иногда терлись носами — у него тоже был нос картошкой. На папу надели какой-то дурацкий костюм, ноги были в тапочках и перевязаны нитью. Похоронный агент зачитал речь — и назвал меня Галиной. Папу бы это наверняка рассмешило.